

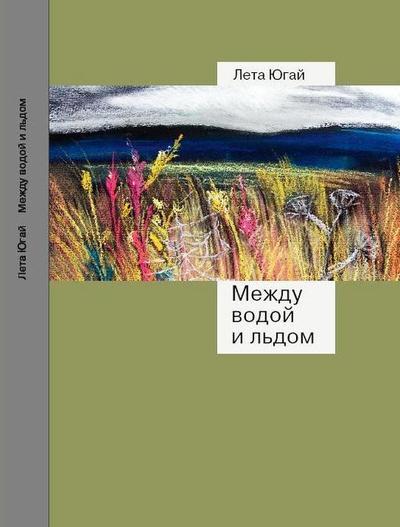
Москва: «Воймега», 2010.
Скажу честно, Лета Югай – один из самых сложных для меня молодых поэтов. Всё время при чтении её стихов чувствуется, что уж очень разные мы с ней. Она – сказочница, фольклорист, я же реалист по своей натуре… В МПГУ, аспиранткой которого Югай сейчас является, тема её научной работы – «Севернорусские похоронные причитания», а мне в Литинституте (который Югай закончила в 2008 году — семинар Андрея Василевского) всегда была интереснее современная литература…
Впрочем, именно умиротворяющая, тёплая интонация, как следствие вытекающая из фольклорно-сказочного начала, и пленяет в её стихах, вызывая симпатию. Такого сочетания детского, местами немного инфантильного мироощущения и вполне зрелой поэтики я давно не встречал у современных авторов. Скажем, мне светло, когда читаю такие строки:
… Человек похож на кактус:
Неуклюжий, но живой.
Или:
Кораблик с железными парусами плывет по глади травы.
Кораблик с пластмассовыми парусами плывет по глади ковра.
А я стою с голубыми глазами, совсем не умею врать…
Всё это очень адекватно человеческому образу Леты – примерной ученицы, «не умеющей врать», очень тактичной, при этом – излучающей свет и добро своим внешним обликом. Она, как лирический герой её стихотворения, «прячется от жизни в травное лето и слово» (неслучайна даже перекличка с именем, как бы указывающая на прятки от себя – и в себя?), умея разглядеть волшебное среди обыденного – главным образом, применительно к родной вологодской топографии. Фантасмагорический план в её стихах причудливо пересекается с реальным.
… Всё равно он у первой школы, он в Вологде, Карлов мост.
Примеры этих пряток в фольклорно-сказочное могут быть и удачны, и неудачны: при ярко выраженном таланте и индивидуальности языка не оставляет ощущение «случайности» некоторых стихотворений. Разумеется, стихам вряд ли может мешать наличие или отсутствие смыслового повода как таковое (вспомним хоть Ходасевича – «но звуки правдивее смысла, /и слово сильнее всего», хоть его последователя Гандлевского – «а что речи нужна позарез подоплёка идей/ и нешуточный повод – так это тебя обманули») – важнее правота стиха, интонация, звук. Однако именно у Леты Югай эта проблема в некоторых стихотворениях стоит достаточно остро – мгновенность, ситуативность лирического содержания зачастую не выводит текст на художественный уровень. На фантасмагорическом фоне всей книги резкие вкрапления реальной жизни выглядят контрапунктами, как в стихотворении про последний звонок:
А о нас говорили, что мы вконец оборзели!
Но в «последний звонок» пришли как можно скромней.
Эти белые фартучки, пахнущие музеем, —
замечательное ретро для смутных дней.
Или другой пример: единственная реальная деталь в стихотворении, кажущемся переложением известной сказки – «У короля было четыре сына: Юг, Запад, Восток и Север» — появляется в финале: «Но как ты услышишь их в городе, в институте?» Благодаря озабоченности интонации и приёму резкого контраста создаётся впечатление, что лирическому герою этот мифологический, фольклорный пласт чрезвычайно важен, что мне – реалисту – внушает некоторое недоверие… Разворачивание стихотворения из априорно непредставимой ситуации зачастую подводит поэта. Возьмём стихотворение «Колыбельная для Саши»: даже если абстрагироваться от слабого эпиграфа –
И лишь того не избежать мне:
Всю жизнь крапивные объятья
Плету, плету не отрываясь,
Но доплести не успеваю…
(Александра Мочалова) –
с синтаксически неверной начальной строкой (которую легко было бы заменить на «лишь одного не избежать…») и сомнительной рифмой «отрываясь – успеваю», — обращает на себя внимание немного инфантильное, кокетливое примеривание на себя сказочного образа. Стихотворение, написанное как ответ на эпиграф, таким образом, рождается из сказочной метафоры и оказывается – не хочется говорить «неубедительным», но не подкреплённым реальной ситуацией, что вносит оттенок изжившего себя жанра посвящения, альбомности.
Гораздо симпатичнее выглядит логическое продолжение этого стихотворения – «Колыбельная для Ани», начало которого хочется повторять как заклинание каждому прихворавшему человеку. Присутствие реального человека в названии конкретизирует, в отличие от предыдущего примера, эмоцию, привносит оттенок действительности.
Не болей ты, не болей, не болей,
продержись огонь и стужу и град.
Бела мельница стоит средь полей,
а на лопастях густой виноград.
Отдельно выделяется в книге цикл из 14-ти стихотворений про филологический факультет, озаглавленный по названиям предметов: «античная литература», «детская литература» и др., что тоже отдаёт некоторой альбомностью – стихи имеют самостоятельное художественное значение и без названий, перекличка которых с содержанием текстов иногда кажется несколько натянутой. Например, прекрасно обошлось бы без названия стихотворение «Зарубежная литература Средних веков»:
Снег уже обряжен для сожженья
и глухарь свой приговор прочёл.
Ива вся гудит под напряженьем
Молодых высоковольтных пчёл.
Ветки, словно шпили, чередою
догорают в солнечной смоле.
Снег чернеет, корчась на земле,
чтобы снова стать живой водою.
Случай, когда ситуативность мешает индивидуальности лирического высказывания, проявляется и в стихотворении «Битое стекло на берегах…».
Битое стекло на берегах,
чёрный талый снег, вороний грай.
Я с утра глотаю этот край,
я свой сон встречаю на ногах.
Мой будильник нестерпимо зол,
а весна спросонья не весна.
Мне бы мимо булочных и школ
улететь в бродячий табор сна.
Знакомая ситуация – но не тот случай, когда благодаря ей рождается радость узнавания. Скорее, создаётся ощущение затёртости до скучного, словно и стихотворение писалось в минуты утренней вялости (на что косвенно указывает рифменная беспомощность). Впрочем, возможно, дело в не вполне удачном отборе стихотворений для книги, т.к. такие случаи – скорее исключения, чем правила. Самые удачные моменты в книге – когда высокая метафорическая плотность уходит и сменяется пронзительным лирическим откровением.
… Но вот чего я вовсе не ожидала –
Что будет так страшно за жизнь, когда мы в разлуке.
Или:
У тебя под шарфом подступает к горлу простуда,
у меня под мостом замёрзла Москва-река.
В последнем примере можно увидеть некоторое смещение иерархии ценностей: замерзание реки становится на одну планку с человеческой простудой. Однако, если прочитать последнюю фразу как логически вытекающую из предыдущей, то появляется иной смысл: страх, переживание простуды любимого как своей беды.
Мучительность понимания, желание его со стороны окружающих (возможно, проистекающая от владения двумя языками – своим, родным, и русским) в поэтике Леты Югай прослеживается постоянно. «Ну вот, и я о том же. Понял ли, понял?»; «Как будто мир поделён между нас двоих (между фольклором и реальностью. – Б.К.), /И мы должны его склеить, свести ладони». В то же время лирический герой отстаивает своё право не только на внутреннюю свободу, но и на присутствие в ирреальном мире.
О чём ты задумалась? Так. О далёком.
или:
А что за своих не вступаюсь – просто не слышу ваш разговор…
Право на свободу отстаивается и для других: в этом смысле можно назвать поэтику Леты Югай очень демократичной, поэтикой ненастаивания. Даже в разговоре о тучках автор подчёркивает:
… У них барашковые прически, диванный изгиб спины,
но, если желаете, в них заряд, убивший шесть человек,
если желаете вы, а им не открыть заснеженных век.
И кажется, что речь идёт о читателе, которого Югай впускает в свой мир лишь наполовину:
… Я тебя отпускаю – рыскай в своих лесах
<…>
Заходить – значит жить снаружи, у каждого свой дом.
Что ж, будем надеяться, что «демократизм» поэтики Леты Югай не перейдёт в излишнюю фатальность. И придёт понимание, что и за «своих» иногда нужно вступаться, и читателя не отпускать, понемногу двигаясь от герметизма фольклорной поэтики к деталям реальной жизни.
Борис Кутенков